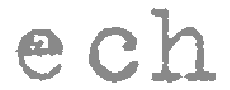...Вы знаете ночи в этом городе и этих обстоятельствах, но-
чи зимние, с долгим временем, вкусом феникса или астры, днев-
ником в голове, ночи, проведенные в пути по остановившимся
улицам, где не раз подумаешь, что нужно высвободить руку из
перчатки, чтобы поправить шарф, где отогреваешься в огромных
кирпичных под'ездах, и глоток коньяка гудит бессонницей и ра-
зочарованиями. Ночью не произволен путь по скоплению замерших
мест, но так хочется продлить его, хотя одинаково легко вооб-
разить и то, откуда только что вышел, и то, где, видимо, поя-
вишься, и будь такси - поймал бы такси, но вот - тянутся успо-
каивающие однообразием и комфортом улицы, в ритме сна сменяют-
ся светофоры, холодеют перила. Проруби неба, белые клочные
массы, и звезда, как точка ножки у циркуля, обмахнувшего
что-то вокруг, и от оглядки становится легко, может быть, по-
тому, что предметы начинают мелькать, и именно в этом - то,
чего ждешь от них, пожимая плечами. Уже промерзнув, пытаешься
тормозить редчайшие автомобили, засыпанные мелким, жестким,
как будто вчерашним снегом, целиком, кроме ветрового стекла,
где в черном углублении сидят гномы и мерцает прикуриватель
под стрелками, и стоит колесо. Забившись в самый угол заднего
сиденья поправляешь, наконец, шарф, здесь жарко и может петь
даже Шульженко, и, ссутулясь в окно, рассеянно думаешь о дви-
жении, и возникает ощущение лестниц с половиками, коврами, где
можно сидеть, и огромной кожаной мебели в холлах, обитой тем
же, чем двери жилья, откуда все выходят покурить, когда пробь-
ет полночь. Или здесь же, открыв окно комнаты, восстанавливать
что-то, глядя на границы чисто-белого, чисто-желтого и чис-
то-дымного в городском небе, на столкновения миров подсветки,
линий, ртутных столбов, отчетливых, несмотря на непогашенный
свет, а холод безобразно врывается внутрь и колеблет. Два вре-
мени дремоты - четыре-пять и одиннадцать утра - особенно хоро-
ши, когда вот-вот ляжешь, но пока, например, - у окна или да-
леко у дверей, где за под'ездом внизу нависают дома и мир до
окружной покачивается, бравируя небрежностью и снами. Холодно,
холодно, и нет обязательств, а есть претерпевание существа не-
существенного, выдуманное и отдающее дрожью и вкусом стекла с
коньяком и магнитофонных клавиш, и зимняя ночь хороша, повто-
ряясь, в непреложности своего восстановления - до времени, где
под утро, серея, кончается день, и начинается сон и забвенье.
Ночи, проведенные в блужданиях по кромке парка и универ-
ситетских зданий, осенние ночи спрятавшихся насекомых, легкого
озноба и гудящих часов на исходе. Фонари, и проблески утра не-
ясно еще, с какой стороны, листки, сигареты и тени вокруг, да-
ющие физическое ощущение погружения в очередной поток, неясно
еще, с какой стороны, где душа боязливо пробовала плыть, поку-
да тело блуждало. Замирание при встрече с каждым голосом, и
медленный разворот, оглядка вокруг с целью уловить еще одно,
следующий крик, ведь присутствие так непреложно, как звук
листвы и пустых проходов, как фатальная неизбежность колебания
на этой волне, и на той, и на той, и как воля к отчаянию. Вок-
руг падал лист, холодки повисали в воздухе, дрожь распростра-
нялась стремительно, и, поворачивая к зданию, где я жил, я
чувствовал всплытие утра, и здесь стрельчатый массив ночи про-
гибался, замирая в последовательности своих жестов, воспомина-
ния о виденном просвечивали сквозь впечатления наставших суме-
рек, и каждое место виделось как бы дважды, тогда и сейчас, на
рассвете. Это наслоение было почти невыносимо, оно не давало
заснуть, но ночь еще жила в нем, фрагменты тянулись и гладили,
простор темнел, чувствовались повороты, вспыхивали точки. Ее
присутсвие в утре, вместе с присутствием утра, было величест-
венно и многослойно, и череда колеблемых, двусмысленных
представлений превращалась в хор, гремевший невыразимо тор-
жественно, сопровождая меня повсюду, пока я засыпал.
Мне всегда было с кем поговорить об этом, и первоначаль-
ная сумятица, возникавшая при покидании мира этих мест на
исходе ночи, распространялась и дальше, требуя слов и общения.
Так возникали своеобразные об'яснения, причудливые языки, сме-
шивающие мистический словарь с только что возникшими термина-
ми, языки, разговор на которых был бредов и беспечен, они как
нельзя более подходили к обстановке, по крайней мере в том,
что касалось меня, как я понимаю, потому, что каждое слово бы-
ло скрытым порывом восстановить сумму впечатлений, затребовав-
ших его. Язык не был средством донести что-то кратчайшим обра-
зом, он был гедонистом, он курировал сладостное замирание над
пережитым, он был воплощенной попыткой спуститься к месту сво-
его возникновения и приглашал собеседника разделить это, не
вполне откровенно. Разговоры продолжались часами, и месяцы
продолжалась трансформация языка, проникание и усваивание им
терминов мистических и филосовских словарей, жаргона и англи-
цизмов, аналитических пассажей, образцов представлений, шифте-
ров. Я, повторяю, быстро находил собеседников, хотя этого и
нельзя было предположить: в университете немногие готовы были
заниматься своими инсайтами так подробно, и различия в опыте
были глубоки и порой неожиданны. Я видел лень и, наоборот, из-
лишнюю восторженность, остановки в плену отточенных периодов
мистицизма, и фатальную необученность нащупать язык, и неком-
муникабельность, и страсть. Переболев многими подобными болез-
нями, я испытал и нормальное, неизбежное состояние погружения
с постепенным нарастанием чувства, что ты вступаешь в сложные
отношения с тем, что можно назвать необратимостью происходяще-
го. Кто-то любил преувеличивать опасность возможных
последствий или бравировать этим, я же мог только порадоваться,
видя потенциальные отношения там, где раньше просто не было
ничего. Ни галлюцинации, рассказы о которых были слишком
часты, ни фрагменты психиатрического языка, прочно вошедшие в
наш жаргон, ни ориентация на исключение себя из самых разных
порядков, скорее декларируемое, чем осуществляемое, не застав-
ляют меня говорить об этом. Пожалуй, более важны были вещи,
которые осмыслялись как раз в общепринятом ключе, и когда я,
например, не мог выстроить сессию, мне не приходило в голову,
что наша хаотичная, неорганизованная, в лучшем случае стихийно
самонаправляемая практика поставила меня в отношения с Местом
и Временем более далекие от принятых, чем я мог в действитель-
ности понять.
Чувство, что течение времени должно разрушиться, сопро-
вождало меня давно, и, когда это случилось, я не был поражен,
точнее, это произошло незаметно. Может быть, первой неосознан-
ной реакцией была потребность вести дневник, неожиданно воз-
никшая и ставшая на какое-то время непреложной. Скурпулезно
отмечая дни и перечисляя обстоятельства, я, видимо, пытался
обмануть принципиальную разноплотность времени, его неоднород-
ность и сгруппированность вокруг мест, где мы обитали. Это бы-
ло чувство почти архитектурное, я бы никогда не сказал, что я
провожу больше времени в главном здании университета и меньше
- в стеклянном здании факультета, скорее я бы признался, что в
главном здании больше времени, как больше вообще всего, и, ве-
домый неизвестным течением обстоятельств, вступая в вестибюль,
я чувствовал, что время здесь есть, именно есть, иногда - как
набор возможных шагов текущего дня, иногда - как нечто, что
здесь проходит. Здание в целом располагало к этому. Мне часто
казалось, что его лестницы идут наверх в часовые столбы и вниз
- в темные воды, что время течет коридорами, размывая темнею-
щие лампы, это впечатление усиливала старая мебель, ковры, не-
разборчивые фигуры в окнах, и общий очерк здания, уходившего
также вверх и вниз, оставляя одну четкую линию - отчеркнуть
темно-бледную синеву позднего вечера, и еще несколько - намек-
нуть на фронтон и статуи на уступах. Если бы меня спросили, с
чем соотносится эта постройка, этот ритм вестибюлей и холлов,
шаг коридоров в деревянных панелях, нескончаемых дверей, узких
и неожиданных лестниц и огромных пластов старого дерева и ста-
рого воздуха, почти как коньячная бочка, здание с подоконника-
ми, выдававшими толщину стен и дверьми, уходящими в высоту
проемов, c берущими там начало каскадами люстр и ликами пред-
ков наук высоко-высоко над мрамором, здание с долгими изгибами
жизни среди и прохождения через, если бы меня спросили, с чем
соотносится это, я не смог бы назвать ничего, определенного
вовне. Это могло быть только то, что усмотрено на грани, зада-
ваемой здесь же, где ни память, ни чувство не скажут "мы зна-
ем" и, стоя у безумной ограды с копьями и астролябиями навер-
ху, вдруг ощущаешь вращение в гигантском механизме и, переска-
кивая в движении сфер отсюда туда, очерчиваешь зигзаги пути по
безудержному ходу мест, налетая на оси, скрываясь в зубцах,
как летучая мышь.
Именно этот мир был полем и, отчасти, самой тканью экспе-
риментов, здесь жили, сюда приходили и возвращались, здесь от-
рабатывали языки. В совершенно ином отношении, и сам, в из-
вестной мере, совершенно иной, мир, говорящий неожиданным го-
лосом старости, многоверия и несоотносимости, привлекал и,
после стеклянных аудиторий, втягивал в свои пределы незамедли-
тельно и бесповоротно. Главное здание доминировало, и чувство
необратимости, о котором я говорил, придавало всему неожидан-
ную цельность. Бегство было необходимо, как и всегда оттуда,
куда первоначально вложено столько себя, и предчувствие этого
диктовало смены отрывистой активности и задумчивости, нас пог-
лощавшие. И, проходя с дипломатом в руках коридорами здания,
встречая знакомых, куря на площадках, разговаривая в простен-
ках, мы двигались в труднопредсказуемом направлении, и это
свойство об'единяло нас с обстоятельствами жизни вокруг, столь
чуждыми нам в иных отношениях.
* * *
...Как вы спали, профессор, о чем вы думали все это время,
пока насекомая жизнь шуршала в рамах, и из шкафа вылетел моты-
лек, а птицы успели отпеть в продвинувшемся к вечеру времени,
приносящем потемнение стенам и чайные минуты обитателям ? Что
было здесь в опустевшей неожиданно квартире, в безмолвии, ко-
торое воцаряется только при незримом присутствии жизни, стран-
ной, идущей неуклонно, не узнающей нас; почему мои воспомина-
ния мешаются с этим, прибавляя свою беспечность к странному
житью на углу здания, как при обработке списков, вставляя что-
то в середину, подсчитывая скобки, не узнавая полученного ?
Что вы думаете, как быть в этом парке, в райке деревьев, раз-
ных пород ноябрьского ослепительно прозрачного житья, в кругу
желтеющих игл, как проходить по нему каждый день, спеша в уни-
верситет, зная, что за парком начинается спуск, где возникает
что-то, подобное глазам бессонницы и грустно-синему в лужах,
посыпанных крупной солью, начинается великий покой ? Мне ка-
жется, что он всегда здесь, за окном, за стеллажом, за старо-
каменной библиотечной стеной, где-то за нагромождением шкафов
с приборами и пылью, и что, стоит открыть какую-то потайную
дверь, отодвинуть шкаф, нажать пружину, привести в движение
хитроумную двухвековую механику, для того и поставленную
здесь, и откроется убегающая черная бездна на три стороны, и
порог, на котором стоишь, и мелкий свет, и уходящие назад це-
почки переплетов окажутся только фрагментом, невеликой частью
чернотного целого, продолжающегося провала, и наоборот, та
чернота покажется продолжением здания, подобно тому, как сту-
пени переходят в тротуар.
* * *
...Я скажу опять об этом времени, когда сквозь вкус табака
ощущается холод и ищешь открытое окно, ждешь изменений, вздра-
гиваешь, - скажу ли я опять ? Когда темным октябрьским вечером
проходишь по аллеям вдоль корпусов, старых, как вечерняя тем-
нота, огибая газоны, мраморные вазы, решетки, встречая у лест-
ниц статуи, которые никогда не смогут стать об'ектом любви,
поднимаешься по ступеням к выступающим из мрака отрезкам, ар-
хитравам, и слитный шепот листвы, пенящейся под окнами, роп-
щет, рокочет, дохлестывает до тяжелых рам, захлестывает рамы -
Прятаться неизвестно отчего в коридорах, без страха подчиняясь
инстинкту игры и преследования, и выглядывать из-за поворота в
желтоватую мглу, ища партнеров; включать свет, наобум настраи-
вая приборы в огромных, почти кубических из-за высоты потолков
лабораториях, полных старыми стеллажами и крепостными справоч-
никами, или же спускаться вниз, вниз, винтовыми каскадами, в
мелькающий свет, в абстрактность. Я выходил очень поздно,
иногда запирая этаж, и, оглядываясь на фасад, видел редкие ок-
на лаборантских комнат, где горел свет, не неоновый, как вы
привыкли, а желтый свет электрических плафонов, озарявший ста-
рые стены и необ'ятный цоколь, и также фрагменты гранита или
мрамора вокруг окон, а затем трепетала листва, вырываясь над
вазами и карнизами, выхватываемая, ныряющая в желтый переплет,
опадая, шумя. И, оставалось замирать на углах,
в перелесках среди многоочитых зданий, чувствуя холод торопя-
щейся ночи, и позже, слушать пристальное пенье плитки, когда,
раздеваешься в темноте, стараясь никого не будить, чтобы отор-
ваться.
Нака-нака-ни
кои-ни синадзу ва...
- Что, восхождение, нисхождение в бормотании слогов, сло-
говом бормотании непонятного, непонятности слогов, невнятнос-
ти, внятности, сложения. Эти ряды звуков, шажки звуков, осво-
енных позже, совпадающих с движением в пространстве, в
пространстве деревьев и дорожек, в пространстве. Это было,
когда из области многозначных логик и алгебры, - с этим, вок-
руг и среди этого, - я сваливался: в падающие аллеи, в мокрые
октябрьские тропинки зауниверситетских выпадающих проходов,
где не должно было быть ничего, кроме, может быть, летящих
вниз ветвей над рекой и гула бездомности.
Тама-но о бакари...
- Было ли в последовательностях формул, рядах знаков, за-
поминаемых досками (и то, что было на прошлой доске, и через
одну), в их усилении - до ужаса, до бедствия понимания, - было
ли в них что-то от этих путешествий, хождения вокруг, вокруг
факультета, вокруг себя и смерти ? Что общего создавала во мне
моя математика с таким миром, его вспышками, столь мимолетны-
ми, едва ли способными повлиять на меня, столь тихими, что ед-
ва ли успевающими вызвать сочувствие, столь бесчисленными и
ярко окрашенными, что хотелось не расставаться с ними всегда и
ради этого отвести себе место, где следует задержаться, не ду-
мая о последствиях ? И просиживая вечера за скромным компьюте-
ром, сдавая программы, только и державшие меня на плаву, я
часто думал, неужели, когда я буду умирать, эти решения, най-
денные в символах и в том, чем они были в действительности, -
неужели они не помогут мне, и я увижу только разноцветных де-
монов, к которым не привык, и наверняка растеряюсь, как это
было со мной всегда, всегда, как и тогда, и дальше.
Радио Эх, Кирилл Щербицкий 1991-95 Передача впервые вышла на Радио Свобода.